БУКОВСКИ, ЧАРЛЬЗ (Bukowski, Charles) (1920–1994) – американский писатель, поэт, сценарист. Автор более 40 книг – 6 романов, 7 сборников рассказов и 32 сборников стихотворений, переведенных на многие языки.
Сторонник эстетики прямой и грубой, развиваемой битниками, богемными и маргинальными кругами Америки 1940–60-х – представителями так называемой «натуралистической» школы.
Вспышка молнии за горой.
Чарльз Буковски.
Второй сборник стихов Чарльза Буковски, опубликованный уже после его смерти.
Вспышка молнии за горой (The Flash of Lightning Behind the Mountain)
Часть 1
Одинокий и злобный,
слежу я.
За старушками в магазине.
Немец
Быть немецким мальчишкой
В Лос-Анджелесе двадцатых...
Мне приходилось тяжко.
Антигерманские нравы тогда
Цвели пышным цветом —
Последствия Первой мировой.
Стаи местных парней
Гоняли меня по округе И орали:
«Держи, держи немчуру!»
Поймать меня они не сумели ни разу.
Я был словно кот.
Я знал все ходы и выходы
Скверов и переулков.
Я вмиг перемахивал через ограды в шесть футов,
Исчезал на задних дворах, в дальних кварталах,
На крышах гаражных и в сотне других укрытий.
Но, в общем, они не больно-то и старались
Меня поймать, боялись — вдруг да пырну ножом
Или просто выколю глаз!
Длилось все это чуть меньше полутора лет,
А потом прекратилось — как-то резко и враз.
Меня кое-как признали (не слишком, но все же),
Я большего и не желал.
Эти сукины дети были американцы,
Они родились здесь, отцы их и матери — тоже.
Их звали Бейкеры, Салливаны и Джонсы.
У них были бледные лица и часто — толстые пуза.
У них текло из носов, и на их поясах
Красовались огромные пряжки.
Я решил — никогда не стану американцем!
Героем моим был барон Манфред фон Рихтхофен,
Легендарный немецкий ас,
Уничтоживший восемьдесят их лучших пилотов,
И с этим они
Ни черта не могли поделать.
Их родители не выносили моих
(Я сам, кстати, тоже).
Я решил: вырасту — буду жить
Где-нибудь типа Исландии,
Никогда никому не стану дверь отпирать,
Буду жить чем пошлет Бог,
Жить с прекрасной женой и дюжиной диких зверей. Вот так все примерно и вышло!
Старая дева
Она была очень тощей, седенькой, сгорбленной.
Она каждый день стояла у самых дверей
Первого международного банка Сан-Педро.
Люди входили и выходили,
Она подбиралась поближе
И тихонько
Просила милостыню —
У этого или того...
Когда у меня просят денег,
Процентов на семьдесят пять
Я подаю, но в двадцати пяти прочих
Инстинктивно чувствую неприязнь —
И просто не ощущаю
Желания подавать.
Старушку у банка я невзлюбил сразу,
Довольно долго она была мне неприятна.
Мы понимали друг друга уже без слов —
Просто я вскидывал руку жестом отказа,
А она торопливо шла прочь.
Это случалось так часто,
Что она
Запомнила мое лицо и больше не подходила.
Как-то днем я, сидя в машине,
Следил за ней.
Из ее двадцати попыток
Семнадцать были удачны.
Она снова тихонько кого-то взяла за рукав...
Я уехал — и вдруг ощутил
Острое чувство вины за свою толстокожесть,
За привычку отказывать старой деве.
А позже
На ипподроме, что в Голливудском парке,
Между шестым и седьмым заездом,
Я снова встретил ее, она пробиралась
Между рядами.
Сгорбленная и тощенькая,
В костлявой ручке зажата
Толстая пачка купюр.
Ясно, она собиралась поставить
На следующий забег.
У нее, конечно, было полное право
Здесь находиться,
Ставить свои деньги с нашими наравне.
Она ждала и желала
Того же, чего желают и ждут
Едва ли не все люди, —
Удачи.
Я наблюдал: вот она
Дошла до конца прохода,
Остановилась, заговорила
С молодым человеком, он улыбнулся
И протянул ей квитанцию.
Я решил — хватит мне отвлекаться,
Поднялся и отошел
К окошку тотализатора,
Чтобы сделать свою ставку.
Возвращаясь к себе на место,
Я спускался по лестнице, а она
Поднималась навстречу.
Мы встретились взглядом, и машинально
Я поднял руку —
Тем самым жестом, который она
Так часто видала у банка.
Она посмотрела в упор,
Голубые глаза не мигали. И, проходя
Мимо меня по ступенькам,
Она сказала:
«Пошел ты!»
Конечно, она права.
Это — закон выживания.
Так поступает компания «Дженерал моторе»,
Так поступаете вы,
Так поступают кошки,
Так поступают птицы, нации и народы.
Так поступаю я, наши близкие так поступают.
Даже боксеры — и те так иногда поступают!
Это случается всякий раз,
Когда вы покупаете хлеб,
Часто это становится ужасом и безумьем —
И случается вновь,
Случается в кабинетах врачебных
И в переулках ночных,
Везде где угодно,
Ежесекундно,
Снова и снова —
Все мы хотим выжить!
Это — не побороть.
Это — привычно.
Это — обычная жизнь,
Уж так оно есть.
Я вернулся и сел.
Хотел поразмыслить,
Но так ничего толкового
И не придумал...
Когда же лошади
Вырвались из ворот
Под свист пригнувшихся к седлам жокеев,
Одетых в шелк —
Оранжевый, голубой,
Слепяще-розовый, желтый,
Салатовый и зеленый
(Безумная радуга сдержанной ярости),
По крикам толпы хлестнуло
Солнечным светом...
И я неожиданно понял — мы все навеки
Запутались в созданных нами самими сетях.
И я немедля простил
Старой деве
Ее принадлежность.
Птицы
Резко, отчаянно
В воздухе пахнет убийством,
Когда меж ветвями снуют летние птицы,
Шумно щебечут, смущая воображение...
Попугай престарелый,
Сроду не говоривший,
Сидит, размышляя, в китайской прачечной —
Сердитый,
Забытый,
Безбрачный.
Перья его крыльев —
Алые, не зеленые,
Мы с ним узнаем друг в друге
Собратьев по долгой, впустую истраченной жизни.
...Вторая жена меня бросила из-за птиц —
Я выпустил их из клетки.
Желтая — та, со сросшимся плохо крылом —
Слетела влево и вниз,
Свистящая, точно органные мехи,
Кошачья добыча;
Вторая — та,
Ядовито-зеленые перья,
Пустая головка с наперсток —
Ракетой взлетела ввысь,
В небо пустое,
Исчезла, точно угасшая страсть,
Точно вчерашнее желанье,
Покинув меня
Навеки.
Когда же моя жена
Вернулась домой ввечеру,
Вся — пакеты, планы, надежды,
Уловки и ярая жадность, —
С сияющим видом
Сидел я над перышком желтым
И музыку впитывал слухом —
Ту, что она,
Как ни странно,
Не в силах была
Услышать.
День игры
Эта дамочка вечно ко мне цеплялась —
И то ей не так, и это...
«Кто спину тебе исцарапал?»
«Да без понятия, детка, наверно —
ты...»
«Спутался с новой шлюхой?!»
«Что за засос на шее?
Горячая, видно, девка!»
«Где? Детка, я ничего не вижу».
«Где?! Вот же! Слева — на шее,
Слева!
Видно, завел ты ее круто!»
«Чей у тебя номер записан
На спичечном коробке?»
«Что там за номер?»
«Вот этот вот! Телефонный!
И почерк — женский!»
«Да сдохнуть мне, если помню, откуда он взялся...»
«Вот позвоню сейчас — и проверю,
Да, позвоню!»
«Действуй давай».
«Нет, я порву его в клочья, номер этой мерзавки,
В клочья порву!»
«Ты трахался с нашей соседкой!
На нашей кровати!
Пока я была на работе!»
«Чего?»
«Мне другая соседка сказала! Сказала — она явилась
Прямо в нашу квартиру!»
«Ах, эта... она просто сахар
У нас одолжила».
«Сахар, как же! Ублюдок, ты ее трахал
Прямо у нас дома, прямо на нашей кровати,
На глазах у нашего пса!»
«Да она только сахар просила, она здесь
Пару минут пробыла».
«По-быстрому перепихнулись?!»
А потом я узнал — она трахалась с доставщиком пиццы
Прямо в его фургончике,
Трахалась с продавцом столовых приборов
В мужском туалете, у писсуара, .
В кабинке для инвалидов.
И было еще что-то такое с газовщиком —
Полагаю, минетик, не больше.
Она выставляла меня дураком,
Прикрывалась щитом своих обвинений —
А сама изменяла напропалую,
Чуть ли не каждый день.
А когда я припер ее к стенке, она
Ответила мне:
«И ЧТО?!»
Я ее выставил.
Мы из-за пса судились — выиграла она.
И когда молодая соседка снова зашла
Спросить сахарку,
Она задержалась подольше,
Чем на минутку-две...
Газы
У бабки моей была большая проблема
С испусканием газов.
Она бывала у нас только по воскресеньям.
Садилась к обеду —
И испускала газы.
Она была очень толстой,
Ей было восемьдесят,
Любила большие стеклянные брошки —
Вот первое, что вы замечали,
Не считая, конечно, газов.
Она испускала газы,
Стоило только подать обед — громкими залпами
С перерывами где-то в минуту, Так —
Раза четыре иль пять,
Пока мы клали на тарелки печеный картофель,
Разливали подливу,
Резали мясо.
Никто не сказал ей ни слова,
Тем более — я.
Мне было всего шесть лет.
Говорила только она — моя бабка.
После четвертого или пятого залпа
Она усмехалась небрежно:
«Я вас еще всех тут переживу!»
Не больно-то мне это нравилось:
Сначала она пукает,
А потом выдает такое!
И — каждое воскресенье:
Она (папина мама),
Каждое воскресенье — газы и смерть,
Печеный картофель, подлива,
Большая стеклянная брошка.
Воскресные эти обеды всегда кончались
Мороженым,
Яблочным пирогом
И громким скандалом —
Не важно, из-за чего.
Бабка моя наконец вылетала из дома
И на поезде красном возвращалась
К себе в Пасадену.
В доме воняло еще, наверное, с час.
Отец мой бродил по столовой,
Как опахалом, вонь разгоняя газетой,
И говорил: «Это все из-за чертовой кислой капусты,
И зачем она ее ест!»
Загадочная нога
Прежде всего — найти, где у этого дома парковка,
Было очень и очень непросто.
Совсем рядом был главный проспект —
И неслись по нему безжалостные убийцы,
Выдававшие пятьдесят пять в зоне
Ограничения до двадцати пяти.
Один прижимался к моему бамперу так тесно,
Что я наблюдал его искаженную рыком рожу
Прямо в зеркальце заднего вида —
И я оттого ухитрился проехать
Мимо узкого переулка, — а если бы не проехал,
Свернул бы прямо к левому краю дома, к самой парковке.
Я выехал на соседнюю улицу, свернул направо,
А после снова направо. Заметил дом —
Безжалостно-синее нечто —
Снова свернул направо — и наконец увидел:
Крошечный знак «парковка».
Подъехал.
Охранник не поднял красно-белый
Деревянный шлагбаум.
Он просунулся головой в окошко.
«Вам чего?» — он спросил.
Он был вылитый киллер в отставке.
«К доктору Мэнксу», — сказал я.
Он взглянул на меня с сомненьем и проворчал:
«Проезжайте!»
Полосатый шлагбаум поднялся. Я заехал,
Покружил, покружил еще,
Нашел наконец свободное место — далековато,
С футбольный так стадиончик от дома.
Вошел.
Отыскал кое-как
И двери, и лифт,
И нужный этаж,
И нужное отделенье.
Вошел.
В вестибюле народу было — битком.
Старушка одна
С регистраторшей говорила.
«Но можно к нему сегодня?»
«Нет, миссис Миллер. Пришли вы
В нужное время — однако спутали день.
Сегодня среда, а записаны вы
На пятницу».
«Но мне пришлось — на такси... Я человек старый,
С деньгами плохо, нельзя ли к нему сегодня?»
«Миссис Миллер, мне жаль, однако записаны вы На пятницу.
В пятницу и приходите!»
Миссис Миллер ушла — одинокая,
Бедная, дряхлая,
Поплелась она к двери.
Я выскочил ловко вперед. Назвал свое имя.
Велено было сидеть и ждать.
Сел среди прочих.
Заметил журнальный столик, полный журналов.
Подошел. Взглянул на журналы.
Странно — но ни один из них не был свежим.
Если честно, все они были
Годовалой давности —
Или больше.
Сел.
Тридцать минут прошло.
Потом сорок пять.
Час.
Сидящий рядом мужчина заговорил:
«Я жду полтора часа», —
Сказал он.
«Кошмар, — говорю. — Они не должны поступать так!»
Он не ответил.
В этот момент регистраторша назвала Мое имя.
Я встал. Заявил ей — вон тот мужчина прождал
Уже полтора часа.
Она не дрогнула бровью.
Сказала: «Прошу за мной...»
Следом за ней я прошел через темный холл.
Она отворила. Указала: «Сюда!»
Я вошел, и она затворила за мною дверь.
Сажусь — и смотрю на схему
Человеческого тела,
Висящую на стене.
Вижу и вены, и сердце, и внутренности —
Все на свете.
Здесь холодно и темно —
Темнее, чем в холле.
Прождал я, может, минут пятнадцать —
И дверь открылась.
Вошел доктор Мэнкс,
За ним — девица с усталым лицом,
В белом халате, в руках — отрывной блокнотик.
Вид — депрессивный.
«Ну-ну, — сказал доктор Мэнкс, — и что у нас здесь?»
«Нога», — отвечаю.
Гляжу, как девица строчит в блокноте.
Большие буквы. «НОГА».
«И что же у нас с ногой?» — вопрошает доктор.
«Болит», — отвечаю.
«БОЛИ», — строчит девица.
Потом заметила, как я гляжу в блокнотик, —
И отвернулась.
«Заполнили вы формуляр, который вам дали
В регистратуре?» — интересуется доктор.
«Не дали мне формуляров», — я говорю.
«Флоренс, — сказал он, — выдайте формуляр».
Она извлекла формуляр из своего блокнота —
И протянула мне.
«Заполните, — попросил доктор Мэнкс, —
Мы скоро вернемся».
Они удалились. Я принялся заполнять.
Все как обычно — имя, фамилия, адрес,
Телефон и место работы, родные — и т.д., и т.п.
Долгий список вопросов.
Ответил на все «нет».
Сижу и сижу.
Прошло уже двадцать минут —
Они наконец вернулись.
Доктор стал ногу мою крутить — и этак, и так.
«ПРАВАЯ», — намекаю.
«Ох», — говорит он.
Флоренс строчит
Что-то в своем блокноте.
Может - «НОГА - ПРАВАЯ»?
Доктор меж тем на правую переключился.
«Так больно?» «Немножко больно». «Не сильно?» «Да нет».
«А если ТАК — больно?»
«Немножко».
«Не сильно?»
«Ну, вообще-то болит вся нога,
Но после такого —
Болит сильнее».
«Новее же НЕ ОЧЕНЬ?»
«А что значит «очень»?»
«Так, чтобы вы на ногу стать не могли».
«Стать я могу».
«Ну-ну... пожалуйста, встаньте!» «Ладно».
«Отлично. Теперь покачайтесь на пальцах —
взад и вперед, взад и вперед».
Качаюсь.
«Очень болит?» — говорит он. «Да нет, средне».
«Знаете что?» — говорит доктор Мэнкс.
«Да нет, не знаю...»
«У нас тут с вами — Загадочная Нога!»
Флоренс опять застрочила
В своем блокноте.
«Моя?»
«Очевидно.
Что с нею не так — я не знаю.
Зайдите-ка снова деньков через тридцать».
«Так через месяц?»
«Ну да, а пойдете обратно —
Подойдите к девушке за столом».
С этим они удалились.
На рецептурном столе уже ожидал
Длиннющий ряд белых флаконов
С оранжевыми ярлычками.
Девушка за столом мельком взглянула...
«Четыре флакона».
Беру.
Пакета она не дала,
Засунул в карманы.
«Сто сорок три доллара», — сообщает.
«Сто сорок три?!» — вопрошаю.
«Ну да — за таблетки».
Я достаю кредитку.
«Не принимаем кредитки», — она заявляет.
«Но у меня с собой нет столько наличных!»
«А сколько есть?»
Лезу в бумажник.
«Доллара двадцать три...»
«Что ж, мы возьмем двадцать три, а после
Пришлем вам счет».
Я протянул ей деньги.
«Увидимся через месяц», — щебечет она с улыбкой.
Я вышел. Прошел в вестибюль.
Мужик, что прождал полтора часа, по-прежнему ждал.
Вхожу в коридор. Дохожу до лифта...
Первый этаж.
Выход.
Потом парковка.
До машины моей —
Как через футбольное поле.
Правая нога, которую доктор Мэнкс
Дергал и мучил,
Болела, как черт знает что.
Добрел кое-как до машины. Залез и завел.
Скоро я снова несся уже по проспекту.
Гнал — а четыре флакона таблеток
Болезненно жали в карманах.
Так, теперь мне осталась только одна сложность —
Жене сообщить свой диагноз.
«Загадочная нога».
Я слышал уже ее голос:
«Что?! Да что ты несешь?!
Как — не сумел объяснить,
ЧТО у тебя с ногой?!
Что значит — он сам не знает?!
ЧТО ТАМ ЕЩЕ за таблетки?!
Дай-ка взглянуть!!!»
За рулем я крутил радио —
Все пытался найти
Спокойную музыку.
Таковой не сыскалось.
Спокойно, кретин
Эту реальность
Придется принять — не важно,
Стоишь ты весь день у конвейера,
Гробишься ли на шахте,
Приходишь ли вечером поздним
С фабрики упаковочной —
К трем ребятишкам, Кидающим
Старые теннисные мячи
О стены квартиры двухкомнатной,
Где спит толстуха-жена
И подгорает ужин.
Эту реальность
Придется принять.
Реальность, в которой — множество стран,
Заваленных ядерной хренью, которой хватит
Взорвать
Даже сердце Земли
И подарить наконец
Сатане возможность
Вызволить алую лаву
Кипящего рока.
Эту реальность
Придется принять —
Когда сломаются стены
Всех в мире психушек,
Когда ошалелых безумцев толпы
Наши мерзкие улицы
Заполонят.
Придется тебе принять
Страшную эту реальность!
Нелитературный денек
Роджер явился — подстриженная бородка,
Дымящая трубочка...
Учит литературе в престижном университете.
Литератор такой старомодный: как только откроет рот —
Спорю, услышите что-то
Типа «Хэм», «Бальзак»
И «Фицджеральд».
Я с Гердой пил — она сидела на «спиде».
Лорейн отключилась в спальне — понятия не имею,
На чем сидела она.
Роджер сел. Ухмыльнулся.
Я протянул ему пиво. Он выпил залпом. Я дал вторую банку —
И тут он начал трепаться:
«Знаешь — Селин с Хемингуэем
Умерли в тот же день?»
«Не-а, не знал».
«А знаешь — Уитмен был педик?»
«Не верь всему, что читаешь».
«Эй, а что за красотка в этой кровати?»
«Эта? Лорейн...»
Потрепавшись немного, Роджер
Встал, доплелся до спальни и влез на кровать
Рядом с Лорейн — в ботинках и полном прикиде.
Лорейн не заметила.
«Эй, детка!»
Роджер залез ей в вырез.
Схватил за грудь.
Лорейн соскочила с кровати: «Ах ты, поганая сволочь!
Что это ты творишь?!»
«Ох, извиняюсь...»
Лорейн вбежала в гостиную.
«ЧТО ТАМ ЗА СУКИН СЫН?! ЭТОТ МУДАК
НАЧАЛ КО МНЕ ПРИСТАВАТЬ!!!»
Роджер вышел из спальни.
«Господи, сожалею! Клянусь, я не хотел оскорбить вас...»
«ДЕРЖИ ПОГАНЫЕ РУКИ
ПРИ СЕБЕ, МАТЬ ТВОЮ ТАК И ЭТАК,
ВОНЮЧИЙ КУСОК ДЕРЬМА!»
«Точно, — сказала Герда, бросая пустую банку на мой ковер, —
Лучше пойди подрочи!»
Роджер помчался к двери. Открыл. Постоял на пороге.
Закрыл за собою дверь —
И растворился в пространстве.
«ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА МАНЬЯК?!» — взревела Лорейн.
«И правда, кто это?» — спросила Герда.
«Просто мой друг Роджер», — ответил я им.
«ПРАВДА? НУ, ТАК ВЕЛИ ЕМУ
ДЕРЖАТЬ ПРИ СЕБЕ РУЧОНКИ!»
«Велю», — обещал я Лорейн.
«Понять не могу — и откуда у тебя
Такие дружки-ублюдки», — сказала Герда.
«Сам не знаю», — я отвечал.
Покакать
Он сказал мне — я помню,
Когда мне было шесть или семь,
Мать бесконечно таскала меня к врачу
И причитала: «Опять он не какал!»
Она вопрошала меня:
«Ну как, ты покакал?»
Похоже, то был любимый ее вопрос.
И, конечно, не стоило лгать — у меня
С каканьем были большие проблемы.
Внутри у меня все связалось узлами —
И родители были тому причиной.
Я смотрел на эти гигантские существа —
Мать и отца — и видел их страшную глупость.
А иногда мне казалось: их глупость — просто притворство,
Ведь глупым настолько попросту
Быть невозможно.
Но — нет, никакого притворства!
Из-за этого у меня кишки перекручивались,
Точно соленые крендельки.
Понимаете, мне ПРИХОДИЛОСЬ жить с ними.
Они объясняли, что мне делать, когда и как.
Они давали мне крышу над головой,
Кормили и одевали.
И — хуже всего — мне просто
Некуда больше было податься. Выбора никакого:
Приходилось быть с ними.
Понимаете, в этом возрасте я еще мало что знал,
Но чувствовал четко: они — просто глыбы плоти,
И все.
Хуже всего были обеды: сплошные слюни,
Чавканье и идиотские разговоры.
Я старался смотреть только себе в тарелку. Пытался
Глотать обед, только он
В желудке словно бы превращался в замазку.
Я не переваривал ни родителей, ни жратву.
Наверно, так, потому что покакать —
Для меня было сущей пыткой.
«Покакал ты или нет?»
И вот я опять — у врача в кабинете.
Он был малость умнее родителей,
Но — не намного.
«Ну-ну, молодой человек, так значит, вы снова не какали?»
Он был толст, изо рта его дурно пахло. И потом воняло.
Золотая толстая цепь от карманных часов
Болталась на брюхе.
Я думал — уж этот-то какает вволю.
Я смотрел на мать.
Задница у нее была мощная.
Воображал ее, сидящую на унитазе,
Какающую, с вытаращенными глазами.
Она была такой безмятежной —
Голубка, и только!
Оба они какают, сердцем чувствовал я.
Вот гнусные люди!
«Итак, молодой человек, вы никак не можете какать,
Да?»
Он часто над этим подшучивал:
Он, дескать, может, она тоже, весь мир — может...
А я — не мог.
«Ну вот что. Пропишем-ка мы вам
эти пилюльки.
Но уж если они не подействуют тоже —
Знаете, что с вами будет?»
Я промолчал.
«Нет, молодой человек, отвечайте».
Ладно, решил я, отвечу.
Очень хотелось скорее оттуда убраться.
«Заворот кишок».
«Заворот кишок», — повторил он с улыбкой.
Потом повернулся к матери:
«А вы-то как, дорогуша?»
«Со мной все отлично, доктор»
Конечно, отлично...
Какала сколько хотела!
И мы выходили из кабинета...
«Славный он человек, наш доктор, верно?»
Не отвечаю.
«Правда ведь, славный?»
«Да».
Но мысленно я произнес другое:
Да, он-то способен какать.
По нему это было видно.
Короче, какал весь мир, — только я
Изнутри был скручен в соленые крендельки!
А после мы шли по улице.
Я глядел на людей, проходивших мимо,
И у каждого из прохожих была задница.
«Я только их задницы и замечал, —
Сказал он, —
Это было ужасно».
«Должно быть, ваше детство
Напоминало мое», — говорю.
«Мне почему-то от этого совершенно не легче», —
Сказал он.
«Мы оба должны это преодолеть», —
Говорю.
«Я пытаюсь», — он отвечал...
Конец эпохи
Все вечеринки
В моем доме
Портило рукоприкладство.
Мое
Это-то их
И привлекало —
Будущих
Писателей,
Их
Будущих
Женщин.
Писатели?
Женщины?
Вечно я слышал,
Как они
Шепчутся
По углам:
«Когда он
Полезет в драку?
Он
Лезет в драку всегда!»
Мне нравились
Начала
И середины
Моих вечеринок.
Но всякий раз,
Когда ночь
Подплывала к утру,
Что-то —
А может, кто-то —
Приводил меня
В дикую ярость.
И тогда я
Хватал за грудки
Какого-нибудь парня
И вышвыривал в дверь
Прямо
С крылечка.
Так было
Проще всего
Избавиться
От гостей.
Ну вот,
А однажды ночью
Я
Твердо решил,
Что
На сей раз
Выдержу
До конца
Без всяких
Бурных Инцидентов.
Я
Как раз
В кухню
Входил —
Налить себе
Еще выпить,
И вдруг
На меня
Бросился
Сзади
Питер —
Владелец
Книжного
Магазина.
У хозяина
Книжного магазина
С головой
Было еще хуже,
Чем почти у всех остальных.
Он стиснул меня
В невозможном
Медвежьем
Захвате
Сзади, —
Должно быть,
Это безумие
Придало ему сил.
И покуда молокососы
В комнате рядом
Толковали на все лады
О способах
Спасения мира,
Меня
Убивали.
Я думал — все,
Мне конец.
Яркие вспышки
Света
Сверкали в глазах.
Я больше
Не мог дышать.
Я чувствовал:
Сердце мое
Бешено бьется,
В висках стучит.
Как зверь,
Попавший в капкан,
Я собрал
Последние силы,
Обхватил его
Шею
Руками,
Согнулся,
Понес его
На себе.
Вбегаю
В кухню.
В самый
Последний
Момент
Голову
Низко склоняю —
И бью его
Головой
О кухонную стену.
Я постоял
Минутку,
Поднял его,
Отнес
В соседнюю
Комнату
И скинул
Там
На колени
К его подружке.
И там,
Под надежной защитой
Ее юбки,
Питер, владелец
Книжного магазина
Пришел в себя
И заплакал (да, он взаправду
Лил слезы):
«Хэнк сделал мне БОЛЬНО! БОЛЬНО!
А я же всего лишь шутил!»
Со всех концов комнаты
Понеслись
Возмущенные крики:
«Ну ты и УБЛЮДОК,
Чинаски!»
«Питер книги твои продает,
Он их
Выставляет в витрине!»
«Питер тебя ЛЮБИТ!»
«Так, — говорю. — А ну, все на выход!
ЖИВО!»
Ясно,
Они удрали,
По пути
Обсуждая друг с другом,
Как они возмущены,
Каким полны отвращеньем.
А я
Запер дверь
За ними,
А после
Выключил
Свет,
Взял
Банку пива —
И просто
Сидел
В темноте
И пил
В одиночку.
И это
Понравилось
Мне
Настолько,
Что
С этого
Вечера
Я
Только так
И живу.
Никаких
Вечеринок больше!
Надо заметить,
С тех пор
Писать у меня
Получается много лучше.
Да все
Получается лучше.
А почему?
Надо уметь
Избавляться
От лживых дружков
И от подлипал,
Покуда
Они
Тебя не сгубили!
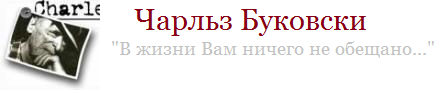
Комментарии
Интересно.
Добавить комментарий